 |
Чтобы прочитать файлы в формате .PDF, воспользуйтесь бесплатной программой Adobe Reader |
2017. Т. 18. № 1 |
|
Вступительное слово главного редактора (В. В. Радаев)
С. 9–12 |
Новые переводы
|
Вебер М.
Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Общности
С. 13–27 |
|
Представляемая книга является вторым томом классического труда Макса Вебера «Хозяйство и общество», который впервые переведён на русский язык в полном объёме. В томе II раскрывается становление структур рациональности, регулирующих функционирование общностей на разных этапах их исторического существования. Здесь даны определения таким концептам, как домашняя общность, ойкос, этнические и политические образования, в частности партии и государства. |
Расширение границ
|
Мохов* С. В.
Управляя неопределённостью и стигмой: региональный рынок ритуальных услуг в этнографических заметках
С. 28–50 |
|
Борьба представителей западной похоронной индустрии с профессиональной стигматизацией привела к тому, что похоронный бизнес стал открытым, публичным и социально ответственным. В то же время российский рынок ритуальных услуг по-прежнему окутан устрашающими мифами и негативными стереотипами. Представители российской похоронной индустрии избегают любых форм публичности. Это приводит к открытой стигматизации профессии. Почему сложилась подобная ситуация? Можно ли предположить, что стигматизация поддерживается самим профессиональным сообществом? |
Дебютные работы
|
Бейлина Е. А.,
Кантер Д. С.,
Клементьев А. А.,
Лялина Н. С.
Мотивы и институциональные условия переработок (на примере офисных служащих г. Москвы)
С. 51–79 |
|
Работа посвящена изучению феномена переработок у офисных служащих. Статистические данные показывают, что многие россияне работают больше 40 ч в неделю, то есть законодательно закреплённого максимума, уходящего корнями в период массовой распространённости физического труда. Возрастающая доля третичного и четвертичного секторов экономики наталкивает на гипотезу о том, что «нормальная» 40-часовая рабочая неделя является избыточным ограничением рабочего времени, и сами работники воспринимают норму иначе. Согласно имеющимся исследованиям, феномен переработки может быть результатом как личностных особенностей индивида, так и институциональных и экономических изменений. |
Профессиональные обзоры
|
Новиков Г. Е.
Очерк истории потребительского кредита
С. 80–95 |
|
Данный обзор представляет характеристику и анализ исторических форм потребительского кредитования. Теоретической базой обзора является культурная и социальная история потребительского кредита — новое междисциплинарное направление, предлагающее альтернативный подход к изучению и пониманию роли, которую кредит в разных странах и в разные исторические периоды играет в жизни людей. В рамках этого подхода в центре внимания оказываются тесные связи между кредитом и отношениями в сообществе, изменения повседневных практик, вызванные распространением потребительского кредитования, и сдвиги в восприятии кредита, его принятии или отторжении. Особый акцент делается на выявлении различий между формами кредитования в разных странах и в разные исторические периоды. Культурная и социальная история кредита представляется наиболее удачным подходом для рассмотрения форм потребительского кредитования в их исторической изменчивости. |
Новые книги
|
Конрой Н. В.
Странные экономики, в которых мы живём. Рецензия на книгу: Gudeman S. 2016. Anthropology and Economy. Cambridge: Cambridge University Press. 225 p.
С. 96–103 |
|
Новая книга эконом-антрополога Стивена Гудемэна посвящена анализу баланса корысти (self-interest) и взаимности (mutuality) в экономических отношениях и основывается на широком этнографическом материале, собранном автором и его коллегами в разные годы XX века. В качестве теоретической схемы Гудемэн предлагает модель пяти институциональных сфер — домохозяйства (house), сообщества (community), торговли (commerce), финансов (finance) и глобальных финансов (meta-finance). В данной модели сочетание торговли, финансов и глобальных финансов характеризует состояние современного капитализма. С одной стороны, сферы представляют собой историческую последовательность, отражающую изменения в скорости, количестве, уровне абстракции экономических трансакций. С другой стороны, экономические сферы взаимозависимы и существуют одновременно, в тесном взаимодействии и конфликте. Взаимодействие обеспечивается с помощью различных связывающих механизмов (рента, бартер, деньги и др.), а конфликт проявляется в моменты столкновения двух сторон экономической жизни — эмпатии и конкуренции. Особенность современного рыночного капитализма, по мнению Гудемэна, заключается в безудержном росте ренты, которая даёт банкам, производителям, продавцам товаров и услуг неконкурентные преимущества, но прикрывается риторикой конкуренции и вытесняет на периферию сочувствие как часть экономического взаимодействия. Дисбаланс порождает неравенство, от которого страдают наименее защищённые участники экономических отношений — домохозяйства и сообщества. Как полевой антрополог, Гудемэн демонстрирует приверженность дисциплинарной традиции, выступая защитником и представителем изучаемых групп, которыми, в его случае, являются не этнические, религиозные, субкультурные и проч. объединения, а люди, живущие по приземлённым правилам первых двух экономических сфер. Меры, предлагаемые Гудемэном для восстановления баланса корысти и взаимности, вряд ли могут стать предметом обсуждения правительств. В то же время книга представляет собой важный вклад в антропологическую критику современных капиталистических отношений. |
Конференции
|
Соколова Е. К.
Свидетели антропологии. 115-я Ежегодная конференция Американской антропологической ассоциации, г. Миннеаполис, 16–20 ноября 2016 г.
С. 104–109 |
|
Ежегодная конференция Американской антропологической ассоциации — одно из наиболее масштабных международных мероприятий, посвящённых антропологии. Согласно информации, приведённой на сайте ассоциации, речь идёт о 750 сессиях и о более чем 6000 исследователях со всего мира. В работе конференции принимают участие крупнейшие сообщества, такие, например, как Общество культурной антропологии, а также более специализированные секции, группы и комитеты. |
Приложение на английском
|
Zhdanov V.
Post-Authoritarian Devolution: The Case of the First Italian Republic
С. 110–131 |
|
Based on the comparative analysis methodology in its case study form, this article examines the origins, the design, and the consequences of territorial arrangements in Italy, i.e. a country in which settling the stateness problem coincided with the process of post-authoritarian transformation. This experience — particularly the pacted transition (although it was not explicitly pronounced in Italy despite the fact that the state never witnessed any post-war anti-fascist lustration of bureaucracy) — was later used as an example for the Spanish model of democratic reforms, which in turn became paradigmatic. This article traces the long-lasting impact of the historic bloc between the industrial bourgeoisie of the Italian North and the landlords of the Italian South (Mezzogiorno) that contributed to the conservation of the socioeconomic backwardness of the latter. Special attention is given to the influence of the structural constraints of international bipolarity that laid down the external framework of the so-called “Italian anomaly”, that is, the lack for almost half a century left-wing and right-wing political parties’ alteration in power. This anomaly delayed Italian regionalization despite its having been envisaged in the constitution. However, the objective socioeconomic demands of a welfare state created possibilities for the birth of regions in the early 1970s. The emergence of the Northern League gave a new dimension to Italian politics by radically reshaping its traditional structures. These developments, taken together with the cleansing of a corrupted Italian political class, the referendum of 1993, and the new electoral law ultimately caused the demise of the First Republic. |



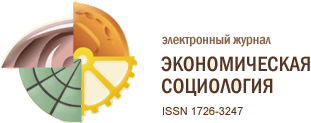







 ©
© 